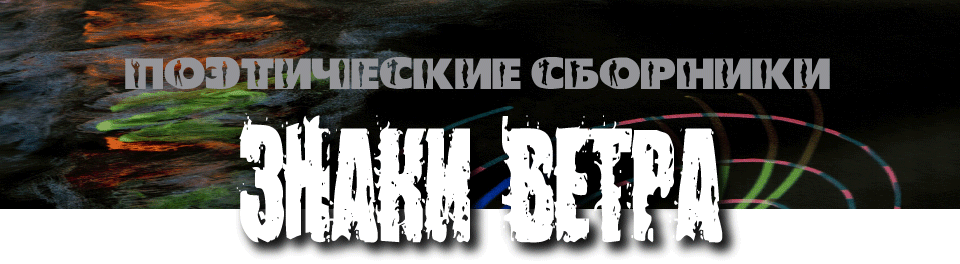Menu:
3. ИЕРУСАЛИМСКИЙ СИНТЕТИЗМ И НЕЛЬДИХЕН
Продолжим, пока её не смыло...
Мне понятно, что Иерусалимский синтетизм, возникший на почве Средиземья, смотрится порой как сколок неоалександрийской школы. Но это не больно: рассматривать общую стратегию русскоязычной словесности нашего ареала в ключе вышеозначенном мне кажется плодотворным в принципе.
Однако, не забудем и о нюансах...
Благие намерения – бич 20 века: мір пытались сделать лучше, чище и светлей все, кому не лень. Вовлечены в такое «переделкино» оказались целые нации. И задело «переделкино» это все стороны человеческой деятельности, в том числе, сферу искусств и словесность. К чему привёл столь масштабный почин, уточнять бессмысленно, поскольку результаты на ладонях Летописи: от её линий и чёрточек – глаз не отвести. Прошлое нас заворожило поступательным ходом ненужных, но неизбежных катастроф. А раз уж ничто так не заразно, как жизнь, за короткий период в сто лет несколько фантастических по своей силе встрясок пережила и русская литература. Создаётся впечатление, что словесность первую четверть минувшего века занималась наведением мостов для нормальной переправы, а следующие поколения с грехом пополам их восстанавливали чуть ли не сто лет, до сих пор. При этом, рубикон давно и безвозвратно пересох...
Говоря о Синтетизме сегодня, пройти мимо Сергея Нeльдихена и его главной декларации «Основ литературного синтетизма» (о существовании каковой автор этих строк даже не подозревал до выхода в 2013 году «Органного многоголосья», тома сочинений некогда известного, так и не взлетевшего, а затем забытого поэта) не представляется возможным. Придётся перекапывать русло: несколько ссылочных «иллюстраций» из истории, в том числе, приватной.
Впервые с идеей о синтетичности искусства поэзии слуга покорный столкнулся, пытаясь осилить чуть ли не 40 лет назад издание трудов В.Брюсова под общим названием (если не ошибаюсь) Ars Poetica. Не ищите в его трудах такой титул, то было английское издание на русском языке, подготовленное каким-то из университетов, сборник объединял несколько работ Брюсова о поэтике, метрике и т.п., насколько я понимаю (хотя и не помню) 1917-18 годов. Затем промелькнул «синтетический поэт» во фразе Мандельштама, очень смутный, скорее А.Белого напоминающий, чем кого-нибудь другого. В самом деле, у кого больше «поют идеи, научные системы», чем у Белого в поэме Первое свидание? Даты публикаций статьи и поэмы сравнить не пришло в голову, но суть синтетизма ускользала в этой фразе, как ты её слова ни поверни. А когда оказалось, что в те же годы (1922) Замятин заговорил о синтетизме применительно к работам Ю.Анненкова, с большой похвалой отзываясь о его знаменитой портретной серии, общая картина перед глазами вовсе поплыла. Сам факт подобной путаницы – свидетельство разброда: кто куда, кто о чём... В двадцатые годы, в эпоху коронованной диалектики, идея циркулировала свободно...
Феномен синтетичной речи всегда меня интересовал, но под синтезом подразумевалась отнюдь не лобовая гибридизация поэзии с прозой, а нечто другое. К 20-м годам прошлого столетия язык литературы не настолько созрел ещё, русская литература, недостаточно ухоженная парадоксальными возможностями языка, была не готова к полноценному восприятию и полной аккумуляции огромного потенциала методологии. А ныне – готова. Так оно виделось. Поэтому в 2009 году, с первого же выпуска журнала «Знаки Ветра», я взялся на свой страх и риск разрабатывать некоторые положения методики синтетизма. Разумеется, когда берёшься за что-то совершенно новое, обязательно жди яда со стороны. Но если к реакции дураков сбоку я был кое-как готов, то к последующим сюрпризам, более чем приятным или наоборот – коварно ошарашивающим, заранее подготовиться мог бы, разве что, ясновидящий. Об одном из этих сюрпризов я уже сказал, это выход тома сочинений С.Нельдихена, о других ещё скажу по ходу темы, здесь же будет уместно с моей стороны сделать существенную оговорку: моё прочтение тех или иных формальных моментов не совпадает с нельдихенской декларацией. На различиях необходимо заострить внимание, но прежде всего – ряд соображений о спровоцировавшем их.
Нельдихен-теоретик или Нельдихен-поэт – кто из них для нас представляет интерес? Оба, но в разной степени. Теоретическая часть прописана им детально и, по-своему, резонно, на первый взгляд – комар носа не подточит (правда, только на первый), а вот безусловно ли она подтверждена поэтическим наследием С.Нельдихена – большой вопрос.
Наследие Нельдихена не ограничивается стихами периода громкой славы поэта, когда его имя мелькало во всевозможных отзывах и рецензиях. При первом же ознакомлении с содержанием тома выясняется, что у нас есть все основания назвать его первопроходцем минималистского письма, тому есть несколько примеров. Скажем, этот:
Кому вы кланяетесь, тополя?
Всякая благодарность – временная благодарность.
Временное спасибо, временное спасибо.
Тем самым частичный ответ на вопрос вроде бы дан. Но процитированное – редкая удача. В большинстве случаев за короткими текстами С.Нельдихена встаёт тень незабвенного Козьмы Пруткова – Нельдихен явно претендовал на афористичность, но не на открытиеминимализма, а своей «Америкой» ему виделось нечто иное: феномен новой поэтической речи, к которому «афоризмы» или минималистское письмо не имеют прямого отношения – и то, и другое явилось побочным продуктом поисков, и чаще неубедительным, нежели наоборот. Разве может сравниться с безукоризненно лёгкой отточенностью прутковских высказываний такая тяжеловесность (?):
Интересно услышать обо всём, о чём не говорят,
А не говорят, прежде всего о том, что вообще о чём-то не говорят.
Лишние слова – вирус нельдихенской концепции, к чему мы ещё вернёмся. Двустишию этому, конечно, есть объяснение, тянущее на оправданье: СССР, окрик и пули несвободы, цензура. Известно, что авторский архив пока не найден, может быть – предусмотрительно уничтожен лакеями кровоядного «кремлёвского читателя», а может и – нет, так что, не разобраться налегке. Вообще – фактор эпохи в отношении Нельдихена ещё более значим, чем мы привыкли считать в отношении Мандельштама или Павла Васильева, Введенского или Хармса. Поэтому от нас требуется чрезвычайная осмотрительность в оценке. Себе, однако, не изменяя при этом, – быть объективным не означает быть снисходительным.
Сергей Нельдихен (если опираться на поэмороман Праздник) – гон, любопытный порой, с усмешкой, пародийный ровно настолько, насколько – автопародийный. Поэзией или ритмической прозой его не назовёшь, смахивает этот гон на стэнд-ап наших дней (что для того времени, бесспорно – особо иобособленно!). Находясь в полной гармонии с такой «беспечной» установкой, лирический герой Сергея Нельдихена падок на прописные истины, он выбирает «тёплую» задушевную манеру свояка, тон вышедшего доверительно посудачить на скамейке у подъезда. Перед нами пример недальновидной эксплуатации прямоты под маской и, что греха таить, сильно уступающий прямоте и убедительности персонажей Зощенко. Причём, всё это претендует на нешуточную аутентичность, на реальное родство «с литературными формами древности». Да-с! И аргументируется оно «ориентацией на запись непосредственно текущей мысли». Здесь автор попал в западню, того не подозревая. Текущие мысли homo sapiens до зевоты заурядны и аморфны, как правило (жизнерадостные банальности и «откровения» Ильи Радалёта, героя Праздника, – прямое тому свидетельство), а из недостойного ранга заурядности и аморфности их выводит соответствующее оформление. Текущие мысли– блеф эпоса и подмостков (недаром наблюдается постепенное перерастание поэмы Праздник в пьесу, хуже того – в неудавшийся карнавал), процесс мышления – дискретный, нарушаемый посторонними соображениями, врывающимися воспоминаниями, сожалениями, искрами неуместных междометий, ругательств и т.п.
Стэндапист, разумеется, выполняет «задание» – наговововорить как можно больше и (что для «писателя» эстрады является аксиомой) своим умничаньем выдавить из «читателя» одобрение: зритель должен согласиться, а то и улыбнуться доводам. Вспоминая, как закрывался Дом поэтов, функционировавший под эгидой Союза поэтов в Петрограде, Леонид Борисов приводит спор между Ходасевичем и Нельдихеном и такие слова первого, брошенные второму: «Я ... ... настаиваю на закрытии этого вертепа, позорящего не только меня, но и вас, Сергей Евгеньевич! Вас уже называют эстрадником, вам предлагают найти себе партнёра и превратиться в своего рода куплетиста». Что лишний раз подтверждает верность выбранного мной сравнения.
Нельдихенский пафос обыденного антилиричен и антипоэтичен, я бы сказал, по крови своей, такой прогресс, как серпом по яйцам: его нововведения предлагают умерщвление едва ли не всех жизнетворных тканей и капилляров поэзии, к чему я ещё вернусь. А читать его текущие мысли скучно: посредственная, как кто-то обмолвился, безнадёжная проза. При этом Праздник (Илья Радалёт), где царит простецкий тон, заканчивается достаточно высокомерными словами автора (с претензией на пьедестал, ни много ни мало!). И тут уже маячит «тень футуриста»...
Впрочем, нельдихенский стэнд-ап прекратился к 23 году. Полагаю – расстрел Гумилёва стал решающим фактором: «Цех поэтов» развалился, многие коллеги уехали за кордон, на страну обрушились днилихорадочного опознавания массами своего, пардон, креативного потенциала. О дальнобойных итогах этого процесса я промолчу, а близлежащей жертвой стала смеховая культура. Возможно, Нельдихен это прочувствовал и понял, как ни крути – человеком он был далеко не бестолковым. Он стал сосредоточенней. К тому времени относится начало нового почина: миниатюрные тексты, о коих говорилась выше, и т.н. синтетическая форма. Новизна подхода, сама по себе, ничего не гарантирует, разумеется, но в данном случае мы можем констатировать: бывают удачи, бывают плотные куски. Не отнять у него и наблюдательности, Нельдихен не просто «следил» за течением жизни, он подмечал, что – не пусто! За «кружку тихого вина» (см. Монолог неопасного человека) – чудесный, но единственный синтетический подарок (синтетический именно в нашем понимании), спасибо отдельное.
К несомненным достижениям поэта я бы отнёс Искренность (Непринуждённость) – мозговитая и декларативная, насыщенная и, как это ни странно, самая литературная вещь периода. Раскованная припрыжка ритма, разговор о настоящем верлибре (а не о занудном белом стихе) тут уместен. И непринуждённость – качество ценимое. Вещь эта посвящена другу, малоизвестному поэту Леониду Борисову, написана она под давлением не самого приятного обстоятельства, а именно – утечки воздуха художественной свободы. И здесь уже проглядывает человек определённо, как нынче модно кляксить, рефлексирующий. Я не буду на ней подробно останавливаться, но вот, вспышка мысли: «И в Древнем Риме шёл обыкновенный дождь, //А разве кто-нибудь дождливым Рим припоминает?» и следующие за нею полтора десятка строк – с естественной, так сказать, для Нельдихена прямотой, терзающей слух «невинным» словообилием; тем не менее, просить прощенья не будем и наградим его не самым сытым бессмертьем:
И в Древнем Риме шёл обыкновенный дождь,
А разве кто-нибудь дождливым Рим припоминает?
Но есть вечные истины, какие необходимо вечно повторять,
А слово «новое» - это ботинок новых пара, -
Ботинки новые до первой грязи и до первой чистки.
И ты придумал только одну словоигрушку:
- «Бог-ач» всегда от слова «бог», -
Ты будешь отрицать, что я тебе помог додуматься до слов подобных!
Ну, хорошо, - давай не хвастать заслугами своими, -
Хотя есть форма безнаказанного воровства – это замалчиванье заслуг другого,
И замалчивание заслуг другого – скрытый плагиат.
Я вижу по глазам твоим, - ты сам уже всё видишь,
Но ещё стыдно тебе сознаться в недоумствах,
Просить прощенья у меня и закормить меня достойною наградою – бессмертьем.
Никем иным не мог и не могу я быть, как только подсчетчиком спокойным,
одиноким, ранним...
Но, нравится или нет, искушение прозой не прошло даром для Нельдихена. Его поэзия по большей части – ползает: вот и в «неслучайных» вещах автором не выжженно пагубное пристрастие к дидактике. Он (или его герой) постоянно что-то объясняет, талдычит, словно мы с вами в отделении умственно отсталых, подсовывает сомнительную, чтоб не сказать липовую, «мудрость», приправленную бытовыми иллюстрациями, превращая всё в пространный, конвенционально изложенный, нудный рассказ, – в этой «поэзии» ничто не может удивить. Такой вы хотите видеть Поэзию, все отвечайте, такой?!! Невидность его «синтетической» поэзии – результат того искушения, он сам себя наказал. А несуразица сей эквилибристики усугубляется ещё и резиновым ямбом (оснащённым пеонами радиправдоподобия), словно подчёркивающим дегенеративность маски «глуповатого и циничного Петрушки» (Вл.Милашевский), застящей непростое лицо. В итоге, и маска – не фонтан, ей не верится (вот-вот, «наивный» станиславский довод: не верю). Потому что либо ты Петрушка, либо – Фауст, а тому и другому в однойнадетой физии не ужиться, хоть тресни. Да и общая картина получается муторной: загнать ровное повествованье в поэтические рамки (где «строчку определяет более или менее самостоятельная часть предложения, часть фразы», по его же схеме, т.е. весьма упрощённая, примитивная разбивка: придаточное предложение – подходит, сносим, причастный оборот – подходит, сносим), и делу конец? Не слишком ли легко?..
И всё же, несмотря на вышесказанное, Сергей Нельдихен – любопытная страница истории российской словесности, и очень хорошо, что нам её вернули. Как и её современникам (подбери по списку), этой странице сильно не повезло: эпоха настолько «серьёзная» была, что не могла их ни принять, ни хоть примерновзвесить. И что актуально для нас в этой возвращённой странице, – это её теоретическая часть, касающаяся литературного синтетизма. Никто так сильно и так амбициозно не замахивался на поэзию, никто так «обоснованно» не предлагал столь кардинальный пересмотр наших представлений о ней, никто не пал так бесславно в тотальной войне с лирикой. В дальнейшем эта часть послужит нам главным ориентиром: от положений Нельдихена отталкиваясь, вернее, сравнивая те положения с нашими, легче определить собственную позицию.
Итак, что касается нас, для ясности:
мы не имеем никакого отношения к т.н. новому синтетизму, чья суть выражена в исполнении текста, а не в письме. Язык тела нас не интересует, имеется ли то или иное сопровождение – тоже. Точнее, мы вовсе не акцентируем на этом внимание, поскольку произнесение поэтического текста требует определённых навыков и артистичности, а мы достаточно артистичны, чтобы не зацикливаться на форматах подачи собственных стихов. Поэтические сборники «Знаки Ветра» оформлялись красочно по совершенно другой причине: в противовес общей унылости и царящему тускляку мы сочли оформление нужным. Но оформление – язык дизайна. Если бы я, автор поэтической трилогии Три в одной, и впрямь исповедовал новый синтетизм, я снабдил бы все три книги бесчисленным количеством иллюстраций, заставок, концовок и прочей мишурой. Чего не произошло. Потому что меня (и нас) больше интересует язык. Речь. Письмо. Его выразительность и качество этой выразительности, его неповторимость. Синтетизм в нашем понимании и по нижеизложенным схемам к оформлению «Знаков Ветра» имеет лишь опосредованное отношение, сколь ни казалось бы оно парадоксальным.
А теперь попробуем разобраться.
Гибкий воздух. Правда, с зазубринами.
Строфика является главной проблемой при записи поэтической речи: с головоломными трудностями, поджидающими верлибриста при записи своего текста, автор этих строк не раз сталкивался, не всегда справляясь безукоризненно. И потому – первое существенное отличие Иерусалимскогосинтетизма от нельдихенского: что может быть записано в строчку – не пишется в столбик. Это одно из правил, коему безмятежная нельдихенская верлибризованная строфика, грубо подогнанная под стихотворную форму, абсолютно не соответствует. Результатом синтеза, если уж на то пошло, должно быть нечто качественно новое, а не поверхностное суммирование всех компонентов, т.е. – новая речь: в случае Сергея Нельдихена этого не произошло. В случае символистов – да, в случае футуристов – да, 41? с Кручёныхом, Ильяздом и Терентьевым тоже – ошеломил, им всем удалось создать феномен новаторской речи. Проект Нельдихена «Литературный синтетизм» провалился как раз по причине отсутствия этого феномена. Вы же не станете утверждать, что тривиальная словоохотливость таковым является.
Вторым существенным отличием является реабилитация фрагментарности. Этот пункт требует минимального разъяснения. Фрагментарность не исключает целостности, на ней лежит печать диктата архитектоники. Если угодно, фрагментарность, как некий принцип, дезорганизующий на первый взгляд, сохраняет в себе прямо противоположное свойство, а именно – динамику самоорганизации кусков, их взаимодействия между собой и, в той же степени, взаимодействия с полем целого. Да и пунктирная непрерывность лирического потока ею гарантируется: фрагментарность куда органичней и достоверней описывает общую динамику бытия, его перманентную изменчивость и развитие во времени как нашего мышления, так и событий мирового фасада. (Бытие, может статься, непрерывно, но сознание фиксирует его фрагментами. Дискретность человеческой памяти тому доказательство). К тому же, фрагментарность является залогом иммунитета системы (тут я надеюсь на сообразительность читателя). Наконец, фрагментарность, если и не является интонационным гарантом, то хотя бы способствует возникновению живой акцентировки. И ещё одно чисто поэтическое преимущество: фрагмент высвечивает недосказанное, его зону, т.е. принцип фрагментарности приглашает читателя к совместной с автором работе, – читатель волен доинтуичить недосказанное, он становится со-творцом. В заключение добавим следующее: может показаться, здесь никакого противоречия с Нельдихеном нет. Параграф 2-й его декларации гласит: «Усложнённость композиции как следствие организации мелких, сжатых отрывков». Тем не менее, в 7-м параграфе находим другое утверждение, основательно противоречащее цитированному: «Успокоенность восприятия ... ... мира, чувств, ритмов как протест против отрывочности, ударности, динамизма...». О панацее успокоенности лишний раз распространяться не буду, убила она в Нельдихене поэта, привела того к оскоминному дидактизму, не более. Но вот «организация мелких, сжатых отрывков» не увязывается с его письмом, – оно сильно тяготеет к монолитности в синтетических формах и, ясен дуб, согласуется с «протестом против отрывочности». Не вредно обратиться и к 10 параграфу декларации: «Стремление к обобщениям, лирико-эпичности, как протест против лирического начала...». Скучно ему было в гумилёвской компании или не очень, поди разберись, но не вызывает сомнений, что назидательность в тоне Нельдихена из глубокомысленного «стремления к обобщениям» родилась, как «протест против лирического начала»! Ох, уж эта лирика, прям, беда... Ниже мы вернёмся к нельдихенской чесотке протеста...
Следующим и, пожалуй, наиболее радикальным отличием Иерусалимского синтетизма является концепция сказать как нельзя (и её насаждение на обочинах, развилках и презренных грядках современности). Концепция сказать как нельзя продолжает лучшую традицию прежних достижений речи в литературе, традицию неудержимого поиска, дерзких экспериментов и ослепительных находок. Продолжает и развивает: прямую параллель с кубофутуристами, дадаистами или имажинистами здесь проводить не надо. Мы опираемся на опыт последних лет, опыт преодоления линейных способов кристаллизации смысла, в равной степени учитывающий заумь и абсурд, все фокусы постмодернизма с кривочтением и цитатностью, концептуальную или случайную значимость, самовитость паузы; учитывающий и строгий модерн, отточенный в традиционное четырёхстишие, и усложнённый, неочевидный синтаксис, и свободные тактики – тонику всевозможных конфигураций (отвергающую нужду в рифме, к примеру) или раскованый верлибр. Но этого мало, конечно же, мало потому, что в таком духе отбояриться может любой, мог бы и Нельдихен в наши дни. Значит, будет ещё.
Сегодня большинству коллег ясно, что основным стройматериалом для стиха (свободного, в том числе) являются существительные. Существительное – оно даже звучит основой, мы только тем и занимаемся, что называем свой мир (поимённо). Но не забываем и о другом: имя переживает себя в эпитете (в самом широком смысле этого слова), характер имени выявляется определением. Здесь мы подбираемся к едва ли не самому главному моменту. Концепция сказать как нельзя является художественным принципом, в котором на первый план выдвигается роль целинных сочетаний и нелинейного синтаксиса. Это принцип, дающий нам новые инструменты для развития метафористичности письма, а в ней как раз и течёт кровь синтетизма, исповедуемого нами.
Нелишне здесь обозначить ряд питательных преимуществ, даруемых оным. Во-первых, названный принцип гарантирует нам достаточно широкий диапазон непредсказуемости и, тем самым, ограждает нас от влипания в уже отыгранные перьями различных школ и направлений формы, от разного сорта литературщины. Во-вторых, он освобождает нас от линейных оков грамматики, от её, так сказать, общепринятой хрестоматийной логики (на что я намекал несколько выше) и от возни со жвачкой обыденности ради «доступности». В этом глубинная правда синтетизма, выдвинутая нами концепция есть ни что иное, как метод художественного противостояния окостенению языка поэзии, систематически оглядывающейся на логику фразы. И в-третьих (возвращаясь к «отцу»), будучи более ёмкой, нежели сразу несколько параграфов нельдихенской декларации, эта концепция отстаивает право поэзии оставаться прежде всего искусством (требующим от автора, всё-таки, искусности) и не покушается на права метафоры и сравнения с маниакальной целью прозаизировать напролом всё.
Культура – кукла. Угодливая и капризная. Продажная и падкая на лесть.
Недавно удалось рассмотреть её платье. Оно из лоскутов. С прорезями для рисованных глаз. С блёстками нержавейки и гниющих. Начиненных яркими кнопками. Хлором травленных. Смолёных... Мы в шоке!
Мы в куклы не играем. А любим – обнажённых.
5. ТЕМА ТА ЖЕ. О НЕВОЛЬНЫХ (И ВОЛЬНЫХ) СОЮЗНИКАХ
На седьмом десятке своей жизни весьма почитаемый, да нет, что я? – прославленный, не только россиянам известный писатель Иван Тургенев обратился к новому для себя жанру: стихотворения в прозе. Их, этих стихотворений в прозе у него с полсотни, а то и больше. Одному из них, точнее, фрагменту одного из них суждено было стать самым любимым и настолько популярным «припевом» среди русскоязычного населения всей планеты, что об его авторе, тем более непосредственно о тексте, даже не помнят. Я о Русском языке, ну, это: «великий, могучий, правдивый и свободный...» – это оттуда.
Странным образом С.Нельдихен тоже забыл о Тургеневе. Мог бы и упомянуть, в своей излюбленной форме – «как протест против». Не менее странным образом Нельдихен ошибается в следующем утверждении: «начиная с футуристов, стали с 22 года разбивать стихотворные строчки на подстрочки». Это просто неправильно. Трагедия Владимир Маяковский так построена, не всегда оправданной была разбивка, не строго тонической, механической, чему причиной (отчасти) – набор, новаторская работа с типографскими шрифтами, но книга вышла аж в 1914 году. В 1918 году напечатана поэма А.Белого Христос воскресе (позже Белый подправил заглавие), где использована упомянутая запись подстрочками, а уже совсем «революционную» запись, безупречно интонированную – лесенкой, до интонационной точности каковой вообще никто не добрался, включая Маяковского, тот же Белый изобрёл как раз в 1922 году. См. Маленький балаган на маленькой планете "Земля". Может, Белый загримировался временно, стал вдруг футуристом?.. Есть ещё одна странность. Я имею в виду уже наверно поднадоевший читателю (в чём моей вины ни на грош), нельдихенский рефрен – как протест против. Впечатление, что лавры Маяковского, Кручёныха и Хлебникова не давали Нельдихену покоя: страсть, как хотелось отличиться в образе бунтаря. Не то чтоб наотмашь, но «профессионально». И он проговорился на этот счёт: Бунтарь молчащий – трагичнейшая из трагедий. Его слова...
Ладно. Тургенев Тургеневым, а синтетизм синтетизмом.
Перед тем, как пришпорить нашу лошадку, повторю сказанное мною в статьях 4-летней давности: синтетизм не предусматривает единой идеологической платформы, эстетика тут обусловлена иным фактором – методологией. (См. Поляна волшебства, Синтетизм и экстремумы комбинаторики). Стоит различать существующие методики синтетизма, и я бы выделил две линии развития: нивелирующий синтетизм и темперированный (и его разновидность – консолидирующий). Сразу отмечу, что генезис непрозрачных смыслов, требующих в свою очередь искушённости интерпретатора, присущ им обеим, поэтому взаимоисключающими методиками их нельзя назвать, но различие между ними есть, и я о том скажу несколько позже. А вот можно ли сочетать эти методики? Да – осторожное. Если сформулировать тот же вопрос в самой бескомпромиссной форме: могут ли в рамках системы, подразумевающей под собой гомогенную поэтику, с одинаковой свободой применяться обе методики безболезненно для самой системы? – у меня нет ответа. Верней – ответ ещё более осторожный: скорее нет, чем да.
Предлагаю ряд соображений.
Нивелирующий синтетизм в современном исполнении несоизмеримо сложнее, ярче, да и умудрённей нельдихенского. Как, впрочем, и второй. Нивелирующий: низводящий к одному уровню. Течение письма, его фактура, не предполагает незапрограммированных заусенцев, непредусмотренных перепадов. Нивелирующим мы можем назвать письмо, которое сводит к одной плоскости потенциал «событий» – этих носителей переживаний читателя – и при определённых параметрах доводит диапазон колебаний авторской интонации до минимума. Такое вот нездоровое свойство нивелирующего синтетизма: он затирает авторский голос. Сама круговерть безумных выходок письма (именно письма) нейтрализует, придавливает его. Письмо вдруг вступает в конфликт с речью, последняя теряет живизну (живость? ах! – живость!). Примером нивелирующего синтетизма служит книга покойного Аркадия Драгомощенко На берегах исключённой реки, но в ней до предела разлита пресыщенность письмом (если не жизнью), а это никак не воодушевляет, и думаю, что слово исключённой в её название автор привнёс неспроста. Поэтому, сначала не пройдём мимо пока ещё смертных. Павел Жагун.
Пыль Калиостро Жагуна – самый поразительный сюрприз из поджидавших меня по ходу «боя» с неизвестным. Пыль Калиостро – озёра полисемантики, скважины преломления смыслов, вдумчивое за их игрой наблюдение, разглядывание. Не пренебрегает Жагун и пространством порождающей фонетики, что ещё более приятно в наши глухие (по убеждениям) времена, а звук у него выверен, текст не перемылен аллитерациями. Но главная особенность книги, конечно же, лавсановое письмо: чистая синтетика – спокойное сопряжение категориально несовместимых элементов в единую ткань. Хладнокровное сопряжение, навстречу читателю книга (автор) даже и не думает идти; беспристрастная критика отживающих эстетик, тотальной точности. И – лирика языка о своих новых заботах, свежий взгляд на вещи, что называется, содержательное изучение возможностей письма. Осмысленно и безоглядно. В общем, триумф синтетизма! А хладнокровие Павла – ничего не поделаешь, не всем же быть страстным. (Похоже, Жагуну удалось то, о чём мечтал Нельдихен, 7-й пункт подходит, где блещет «успокоенное восприятие...»). Пыль Калиостро – своего рода учебник из будущего. Со всеми его плюсами и минусами. К числу последних (он главный, а может быть, и вовсе единственный) относится то свойство нивелирующего стиля, о котором я уже распространялся – голос не слышен, изобилие парадоксов стирает его. И он – этот минус – неразрывно связан с другим (таки нашёлся и второй) – с многословием. Да. Многословие – черта Пыли Калиостро. Долгое, равнинное течение речи сопутствует образованию необязательных её перехлёстываний. Мне автор признавался, что хотел написать книгу, которую невозможно будет прочитать. Не могу не поделиться личным опытом: дважды я книгу откладывал с ощущением сродни разочарованию – нивелирующий момент доведён в ней до градуса тления, и интерес к ней на каком-то этапе вдруг перестаёт поддерживаться словами, горизонт ожидаемых читателем зацепок вниманию стремительно разглаживается. В этом и кроется основной подвох нивелирующего синтетизма: пространство текста не предвещает никакой лирической интриги, куда ни кинешь взгляд – окоём отутюжен, как в открытом море, согласитесь – уныло. А причина тому – исчезновение голоса, наличие букв не помогает! В итоге, я себя пересилил (и всем желаю того же), дочитал – не жалею. Другая книга Жагуна (Carte Blanche), как бы полегче. Правда, ряд синтетических свойств письма в ней сохраняется, несмотря на то, что автор сочинил себе цепочку искусственных препон. Авторские задачи (перед собой, разумеется) – дело святое, и мы не станем им перечить. Зато на одном кажущемся резком отличии есть смысл тормознуть: структура и запись уж очень разнятся с Пылью Калиостро. Присмотревшись, однако, убеждаемся в том, что это лишь фасадное отличие, не более: упор на синтагматическую детализацию текста увеличивает роль паузы в Carte Blanche (пробел между слов в строке становится двойным, тройным), а соответственно фрагментарность и её значение для автора в этой книге нисколько не уступает её значению в предыдущей. И таких поверхностных несовпадений целый ряд. Тем не менее: лирикой языка о своих новых заботах эту книгу я не назову. В целом же, говоря о П.Жагуне, можно резюмировать: «что может быть записано в строчку – не пишется в столбик» поэту Пыли Калиостро, безусловно, известно. А правила «сказать как нельзя» (в частности, мы говорили выше о «целинных» словосочетаниях) Павел придерживается, судя по всему, издавна, не пользуясь ничьей подсказкой.
Темперированный синтетизм по своим характеристикам близок вышеописанному, но резко отличается интонационно. Тление голоса тут исключено – словно разряды тока протекают между словами. Напряжение и ещё раз напряжение, ощущение дискомфорта при вникании; типичный эффект когнитивного диссонанса: с картиной мiра, знакомой вам, прописанной кистью вашей персональной познавательной системы до мелочей, вынесенное на ваш суд категорически не сообразуется. Эта исключительность, характерная для синтетизма в принципе, темперированному синтетизму присуща в ещё большей степени, чем нивелирующему, с внезапностями последнего сознанию легче свыкнуться. Впрочем, она локальная, ибо, повторяю, обе линии синтетизма нацелены на созидание нового языка поэзии (сколь бы пафосной ни казалась постановка задачи). В связи с чем на нашем фото уже знакомое читателю лицо – Алекс Гельман. Он вполне вольный союзник, недаром на страницах сборников «Знаки Ветра» его стихи печатались регулярно. Гельмана нетрудно обвинить в излишней герметичности, как и любого другого, отказавшегося от конвенциональности. Между Гельманом и Жагуном совсем мало общего и, мне кажется, стоит выделить несколько существенных различий. Гельман – интуит, ему необходимо слышать «за письмом» речь, Алекс её взвешивает на слух, а Павел Жагун – думатель, он речь свою смотрит – разумеет её. Не уверен, что все сходу согласятся с моим утверждением, однако, это чрезвычайный момент: голос Гельмана прорывается едва ли не в каждой его строчке. Письмо его лаконично, подчас эротично и всегда индивидуалистично, впрочем, и вектор внимания Гельмана направлен в иную сторону, хорошо это или плохо – мiра его письмо не замечает, чего не скажешь о письме Жагуна. Но об этом, по-моему, лучше не жалеть, русской поэзией индивидуализм усвоен плохо, одним ярким эксцентриком больше – не во вред.
Я не случайно противопоставил одного другому: сравнивать их глупо, Жагун зачерпывает шире, да и помнит больше, но Гельман переживает острей! – они заряжены полярно. Посему, на вгляд приватный покорного слуги, чтобы проиллюстрировать разницу между двумя линиями синтетизма, штрихи к портретам столь непохожих лиц были необходимы. Но есть ещё несколько поэтов, о коих надо бы – хоть пару слов.
Петя Птах. Явный претендент. Его синтетика диалектична, условно говоря, на стыке отрицаний построенная. Пять лет назад я назвал его синтетизм дискурсивным, от чего не отказываюсь. Руда его поэтики своя, не нахапанная отовсюду, и это ему в плюс, но Птаха больше интересует столкновение идеологий, и как он с ними разберётся – пока непонятно. Противопоставление идеологических блоков или присвоенных идеологиями конструкций, строго говоря: только первый шаг. Необходим следующий – синтез. Синтез не сводится к исключению одного чем-то противоположным, отнюдь, синтез – волшебник, творец, а не кнут, загоняющий в тупик парадоксов. О, это великий соблазн для всех нас – уткнуться в азотный угол парадоксов! – но лёгким Поэзии для выживания нужен кислород. Темпераментом Птах ближе к Гельману, сорняки лишних слов удаляются им на корню, но нарративной манерой или ходом письма ближе к Жагуну, и бывает – забалтывается. В лучшем смысле этого слова. К его поэзии частично приложимы нельдихенские теоретические требования.
Гениальная Ника Скандиака. Дабы сразу рассеять пыль подозрений, могущих возникнуть в мозгах рекордных пустомелей и лицемеров метрополии, спешу уточнить: союзник она ещё более невольный, чем Павел Жагун. Зато: три обозначенных мною принципа, на коих зиждется методология Иерусалимского синтетизма, словно под неё писаны; что сказать в оправдание? – специально не кропал. В Заметках на отшибе я уже говорил о новизне и формальных достоинствах её архитектоник, повторяться нет смысла. Здесь же отмечу, что подражать ей невозможно: фигуратив жеста Ники неподражаемо синтетичен. Ну, а оформление текста – это лишь часть технологии, правда (и здесь я вынужден, всё-таки, повторить однажды сказанное), все эти технотонкости, в конечном счёте, обслуживают голос поэтессы: филигранно интегрированные технические новшества консолидируют интонационную разъятость, возникающую вследствие введения тех самых новшеств, и генерируют появление голоса. Это не всем дано! Будучи сама «крайностью» (а формально так оно и есть), по характеру Скандиака, конечно же, не лунный автор, а солнечный, её поэтические набеги на целину алогичных связей совершенно непередаваемы, ей словно предписана непредсказуемость, и потому – оставим её сад крылатых звонких яблок.
Ещё одно крайне любопытное явление – это молодая поэтесса Евгения Суслова. Вольный она союзник или невольный, мне трудно сказать, скорее первое, раз уж не побрезговала опубликоваться на страницах «Знаков Ветра» (№7). И здесь отнесёмся непосредственно к циклу стихотворений Целование в обряд. Женя – поэт утончённый. В её стихах царит загадочная аура недосказанности, там – ни тени прозаичности, ни лобового нахрапа, ни намёка на скисший винегрет искренности, целиком себя дискредитировавшей вздохами бессилия – в рифму! Её поэзия глубоко медитативна, слегка напоминает поэзию Г.Айги. Читателя ленивого, не желающего напрячься, дочувствовать недосказанное, такая поэзия отсекает напрочь. И это хорошо. Хочется думать – у Сусловой, у её спрятанного голоса неординарное будущее. И совсем не хочется думать, что она сползёт в сторону гладкой удобоваримости. Между нею и шотландской мастерицей есть нечто общее: синтаксис, его парадоксальность, уверенность этого синтаксиса (в случае Сусловой эта уверенность – тихая) воссоздаёт условия для появления голоса, он вроде как пробирается меж булыжников мёртвого смысла и... возникает. (Какое мерзотное слово! – эксплицитно). Скандиака и Суслова именно тем и схожи, хотя первая пожарче, конечно.
Меня могут обвинить, что бесцеремонно сгрёб под своё крыло эту, того – ну что ж, у них есть возможность меня опровергнуть. Дабы не быть голословным, здесь же и объявим, не икая: я готов возродить подмороженные поэтические сборники «Знаки Ветра» ради этой цели...
Ну и, для приличия – немного о себе.
Эзотерический синтетизм: все признаки общей для обеих линий методологии налицо – так в чём же дело? Дело в эстетике. И её положение гласит: невероятное ближе и родней Поэзии, нежели «реальное», «достоверное», «настоящее» или правдоподобное. Повторяю в который раз: чудо – разум Бога. Такова основа моей эстетики. И именно этот фактор послужил замковым камнем для одной из арок Новой Александрии (тоже – невероятной). Остаётся добавить: все упомянутые мною синтетисты пишут так, словно невероятное рядом (запомни, читатель: миг – невероятен!), и о нём следует невероятно говорить! Этот принцип – формообразующий. Ручаюсь, что кому-то из них и в голову не приходило обосновывать своё письмо названной эстетикой, и большинство из них, если не каждый, невероятно далеки от моих оккультных интересов.
А посему, заинтересованных и внемлющих отсылаю к своим книгам, от Азбуки до Последнего выплеска: в них всё сквозит.