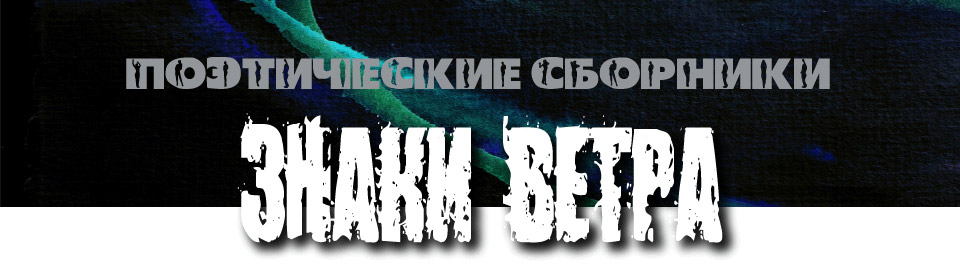Menu:
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ
СВЕЖЕВАНИЕ БУДУЩЕГО
«Теллурия», Набоков и не только
(Черновой вариант. Отредактированная версия опубликована в журнале "ЛИTERRAТУРА":
http://literratura.org/criticism/3096-vladimir-tarasov-svezhevanie-buduschego.html)
I
Первая прочитанная мною набоковская книга – роман «Дар». Даже не пытаюсь представить себе, как всё повернулось бы, прочитай я сначала «Подвиг» или «Король, дама, валет», к примеру. Но это был недаром «Дар»! Помню совершенно ошеломительное впечатление от романа – соки чистейшего языка, гроздья незапятнанных изысков, свободно нависающие, предлагающие себя взалкавшему читателю, тоскующему по богатству и красотам некогда прославляемой медлительной речи. О да, этот миф был ещё жив, несмотря на десятки лет безоглядного насилия со стороны деревянной идеологии и её борзых носителей. По ходу чтения, конечно же, возникали различные мысли, какие-то соображения посещали закрома извилин, но всего этого даже приблизительно не восстановить. Зато после того как я закрыл белоснежный ардисовский том (кстати, очень редкий завод, всем известны синие тома, но вот белый «Дар» минимальным тиражом вышел) под костью лба буквально вспыхнуло: так вот почему стоило уезжать!.. Произошло это чуть более 40 лет назад: спустя неделю-другую я купил «Возвращение Чорба», затем, всё в том же магазине (куда через два года удачно устроился на лучшую для молодого сочинителя работу) приобрёл «Лужина» с его маетой промеж клеток шахматной доски, ну и так далее.
Когда у меня красовалось уже штук пять цветных ардисовских томиков, о смерти Набокова неожиданно передали по радио. Смешно сказать – в Израиле он был гораздо известней, чем у себя на родине. О преклонном возрасте писателя знал весь мир, и я – не исключение, но всё равно его уход показался мне некой постановкой, как-то оно нарочито смотрелось: Ну?.. Ты познакомился? Читаешь?! Окей, продолжай в том же духе, но МЫ его забираем, а то бабочек не напасёшься... Я конечно же тут немного загибаю, но предсказуемая «внезапность» ухода воспринималась мною как всесторонне продуманная случайность. Случайность отнюдь не случайная и невероятно досадная: к тому времени тёзка-дворянин занял центральное место в моём сознании – не пытаюсь проводить аналогии, с чем-то сравнивать, ничего подобного, – Набоков стал ярчайшей звездой, сверкающей в бездонном мраке стынущей пустыни, образцом благородной стойкости, путеводителем бескровного сопротивления потугам скользкой всепроникающей энтропии. Причина тому ясна. И убедительна, как сокровенный горный родник.
Наша родина язык. Поэтам такой подход известен и ясен, долгих объяснений не требует. А вот какие неудобства испытывает душа поэта, когда он перескакивает на язык другой, хоть и хорошо знакомый, я не берусь вообразить. Прежде чем сменить языковое пристанище, Набоков подтвердил безумную, а для некоторых – бесполезную преданность красоте русского языка. Ежедневная борьба с плоским соблазном «упрощения речи» в эмигрантском языковом аквариуме для меня отнюдь не выдумка, за десятки лет постоянного пребывания вне метрополии я стал свидетелем сотен и тысяч позорных соскальзываний в безмозглую чавкающую трясину разъедающего косноязычия. Оно засасывает быстро: человек сдался один раз, простил себе «лаконичную» косность, потом второй раз простил, третий – и всё, ТЮТЮ, он уже не в силах сопротивляться собственной деградации, тем более что: все же так говорят!.. И потому Набоков для меня – духовный ориентир. А дабы сказанное не казалось чем-то приторно поверхностным, я уточню: духовный т.е. мета-эстетический.
Препарат «Лирика» предназначен для полного обуздания фантомных болей, возникающих естественным образом у большинства пациентов вследствие ампутации конечности. Это средство на редкость эффективно и – факт немаловажный в практике Homo Ludens – не сковывает пациента муками жестокой физической зависимости.
Разумеется, после столь кардинального обозначения масштаба требований к художнику слова, моим вниманием завладело «течение» современной литературы на русском языке. Я подчёркиваю: на русском языке, поскольку эта речь остаётся родной, нравится оно или нет. Конечно, искус сравнения того с тем или этим при таком подходе для человека неизбежен, хотя признаю – должен был быть подавлен в зародыше: смысл-то игры в другом, да и игрой свою любовь к изящной словесности я назвал лишь в угоду вездесущему Такту. Впрочем, если совсем всерьёз, то игра называемая литературой, несёт в себе риски немыслимо высоких ставок. Да-да, всерьёз именно так! Однако, если вы думаете, что далее пойдёт разговор об амбициях, так вы ошибаетесь – не пойдёт.
А теперь, пренебрегая поступательным развитием событий, широкими мазками форсируя хронику, не лишним будет напомнить об эмиграции художественных сил из СССР – уехало так много, что на каком-то этапе казалось – русской литературе приходит конец. Такие вот беспутные факты: мало того, что новаторский литературный потенциал огромной страны старательно сводился к нулю усилиями сначала РАПП`а, потом – Злодея и его палачей, в 70-е едва окрепшая творческая интеллигенция, убедившись в иллюзорности Оттепели, хлынула из страны в Израиль, США, Европу, хоть в Новую Зеландию – лишь бы не «участвовать». Да и власть без особых затей лишала гражданства запросто. Возникало ощущение постепенного, но решительного, безапелляционного четвертования свободного художественного слова сродни средневековым истязаниям. Феноменальная дворянская литература в лице выше упомянутого В.Набокова ушла безвозвратно, а лучшие силы современности (Саша Соколов, Мамлеев, Аксёнов, Волохонский и Бродский, Марамзин, Генделев, молодой и талантливый Хорват, кто ещё? – Хвостенко, Каганская, Зиновьев, Л.Лосев, последний футурист Савелий Гринберг, ККК и Бурихин, Довлатов, в конце концов, – господа, моих конечностей не хватает, но и вам своих не хватит, сколько бы голов в семье ни было!) страждят, бедные, за колкими пределами отечества и давятся ежедневно краснеющей от стыда за них чечевицей...
Список выглядит внушительно, не правда ли, а ведь я даже десятой части литераторов не упомянул. Причём – вопрос «кто следующий?» не стоял, скорее «кто там останется?» вопрошали. А чистка внутри Союза – от вредной литературы – принимала маразматический размах. Жена, в смысле официальная (было со мной и такое), рассказывала, помнится, как в библиотеках Ленинграда списывали книги Виктора Некрасова, Максимова, Марамзина, «Один день» Солженицына, Гладилина и разных других: не просто списывали, не-не, подход был фундаментальным – под гильотину отправляли! Другими словами, литература прекращала быть отечественной и превращалась в эмигрантскую. Неснятое кино: Литература русского изгнания... – звучит булыжно, чтоб не сказать камнелётно, однако не очень убедительно, – всем же известна её плотная имперская многомерность: у русского языка есть чудесное свойство выбирать талантливые явления среди нацменьшинств, а затем с лёгкостью их адаптировать, «заразив» своей гибкостью и волшебным влажным лиризмом...
Любители почти-огромных чисел бросятся мне возражать: Да ты сгущаешь, подавляющее большинство осталось! Вознесенский остался? Остался! Ахмадулина осталась? Осталась! А Распутин-Белов-Астафьев! А Бакланов-Рыбаков-Айтматов! А любимчик твой Зульфикаров! А Сулейменов, несмотря на запрет книги! А Маканин! А Тендряков! А Гранин! А Битов, наш бескомпромиссный, как подводный мир и поздняя ихтиология, Битов! Да что их теология! наш непреклонный, наш спасительный Арарат – Битов! да что там ихний Арарат, это же наш Пушкинский дом, наш светлый ДАР! и не хуже вашего «Дара»!!!
Танки в Прагу даже Гитлер не вводил...
Двадцатый век?! – безнравствен, как дудка логики. И приучил нас к тому, что изощрённый цинизм принимается за утончённое чувство юмора...
В лесу находка мишкина, а под забором – Гришкина (несвежая народная мудрость).
Невредимая осень, эмигрантская мята... «Пушкинский дом» сравнивать с «Даром», ну ей Богу, невмоготу. Этот Одоевцев со следами позавчерашнего борща на ботинках и серой штанине, глубокомысленно толкующий: Блок-де это конечно да-ух-ах! но Пастернак, ой, ближе!! А все остальные, надо понимать, дальше... Честно похмеляющийся раз в сто минут Одоевцев, поскольку к той нельзя, к другой поздно, ну хотя бы глоток, тяжело-непонятно, и – рядом с ним?! – свободный и бодрый Годунов-Чердынцев, на лету схватывающий малейшие изменения окружающей среды в радиусе двадцати, а то и более метров – неважно какое оно: то может быть кружащийся пропеллером, падающий на асфальт пожелтевший лист (отметим, пригодится!), а может быть редактор нашей газеты, наскоро вдевающий равнодушное прежде выражение своего лица в морщинистую маску фальшивой озабоченности (и это пригодится!).
Во время Великой Отечественной самая младшая сестра моего деда (имени не помню, и фото её не видел никогда) была молодой, по рассказам судя – очень красивой женщиной, в 1942 году 26 лет от роду. С двумя крошечными детьми на руках: кажется, два и три года деткам. Они жили в бывшем Бахмуте; муж – шахтёр, был призван в армию, соответственно – на фронте, война ведь. За то что мужья на фронте немцы баб не расстреливали – не дураки же, в конце концов: крупная война, демобилизация всеобщая, всё это они понимали. Но вот нашёлся один доброхот, пожилой украинец, указал немцам на молодую-красивую, дескать, еврейка она, не просто жена шахтёра. Во время очередного рейда «чистильщиков», её с детьми (и ещё сотню «распознанных») загнали в барак и сожгли. Живьём.
Читатель, конечно, заметил, что временные рамки основной канвы текста ограничены 70-ми и первой половиной 80-х годов. Мы там застрянем не надолго, но избранный мною формат (а точнее – сам жанр) позволяет ткани словесной любопытствовать и заползать в самые дальние углы авторской памяти свободно и с полной ответственностью; пускай вас это не удивляет.
Зато на дворе вторая декада третьего тысячелетия со дня рождения Христа, с ошибкой в 4 года высчитанного «скифским монахом». Ну надо же, как ни считай, с нами такое в первый раз!.. Прозорлив был всем на зависть Юрий Карлович: мы живём впервые.
Но если снизить обороты полусладкой шутливости, если настроение своё направить в русло созерцательно-обобщающего наблюдения, спокойно гасить при этом любые поползновения спекулятивного концептуализма, если ... – то следует признать, что мы обретаемся в давно знакомой зоне фантастических утопий, в пространстве, будоражевшем воображение Лема и Бредбери. И потому назрел разговор об утопиях новых и старых, об антиутопиях разных. Вот «451° по Фаренгейту», например. Воспринималась ли эта книга как антиутопия? Русский читатель 60-х годов вряд ли так ставил вопрос. А ныне всяк согласится: произведение оказалось пророческим. Не на сто процентов, к счастью, но Бредбери предвидел опасность и угадал её оползни – книги сегодня выбрасываются, а Знание – на фиг не нужно: «оно где-то у меня в айфоне или в какой другой жопе, ну где-то там, ща кнопку найду, блядь, не, сука, другую, да хули ты в натуре, всё путём, не ссы!». Тут надо чётко различать – в массах дело обстоит именно таким образом, каким Рэй Бредбери ситуацию описывал, а я пытаюсь её передать, используя лексику обыкновенного долбоёба, неожиданно для себя и окружающих попавшего в цейтнот: простенькая сценка.
Сегодня нам легче происходящее оценить – русский человек побывал где угодно, включая Токио, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Стокгольм, не говоря уже о Лондоне или Риме. А что мы могли в 60-е знать о быте американца? – разве что по журналу «Америка», доступному в СССР единицам (это в Москве и Питере – единицам, а в Астрахани? в Саратове?..). В общем, Рэй Бредбери был внимателен, увиденное обдумывал, без подмешивания идеологического желатина и убойных примесей спокойно всё взвешивал, – а потому честь и хвала любимому «марсианину», американскому гению, фавориту технической интеллигенции.
Из-под столешницы мне, как всегда, сыпятся любезные подсказки: а Оруэлл как же?.. Ну что Оруэлл.., Оруэлл предвидел современную британскую столицу – в Лондоне тебя видят везде и всюду, этих «глаз» понатыкано тысячи, но! В Лондоне вроде не пытают за образ мысли, и уж тем более не «раскалывают», подсовывая крыс. И в Китае от пыток крысами, насколько мне известно, отказались. К тому же в Китае легче смыться: там нет возможности засечь тебя в любой точке. И вообще: тема настолько огромная, что не остановиться, – не стоит мне указывать на фантазии Брюсова или Лао Шэ. Всё это – плюс Сен-Симон и не знаю кто, – не подходит! И вам станет ясно почему.
Итак, дорогой читатель, мы прорвались сквозь подсказки. Продолжаем...
Одну утопию сегодня я отношу к сорту пророчеств стопроцентно точных, ну, как попадания Нострадамуса – в яблочко, без глупой болтовни про «здесь не совсем, а там – четыре месяца разница»! Родители наши в этой УТОПИИ жили, даже любили и работали и, что совершенно невероятно, ни минуты не подозревали сколь подробно эта «утопия» была воссоздана на бумаге за 330 лет до! Кто-то не верит, чувствую. Ладно: речь идёт об очень известной книге, которую никто не читал, называется она «Город Солнца», автор её – итальянский писатель по имени Кампанелла.
Для начала – кто такой Томмазо Кампанелла?.. Для кого-то он «величайший сын Италии», для кого-то – философ неважный, к тому же плохо разбирающийся в людях, а для третьих – католический мыслитель, своим учением предвосхитивший реформы католической Церкви 20-го века. В чудовищных условиях неаполитанских тюрем и темниц Кампанелла пробыл 27 лет безвылазно за подготовку антииспанского восстания и беспробудную ересь, в коей периодически обвинялся; плюс к тому несколько арестов инквизиторами и пребываний в тюрьме сроком от считанных дней до полутора лет ранее, плюс поднадзорное, инквизицией опять же курируемое, двухлетнее пребывание в Риме, насколько я понимаю, частично в тюрьме, частично в монастырской келье-одиночке без права на свидание. Прибавьте к этому фантастические пытки, через которые Кампанелла прошёл – и не сдался! Вот одна, самая страшная, но – только одна из: 36 часов дыбы, когда медленно, но наверняка травмируются (а то и рвутся) мышцы и сухожилия, а «пикантность» пытки в том, что тело насажено при этом на кол, причём кол впивается.., цитата:
В течение сорока часов я был вздёрнут на дыбу с вывернутыми руками, и верёвки рассекали мне тело до костей, и острый кол пожирал, и сверлил, и раздирал мне зад и пил мою кровь, чтобы вынудить меня произнести перед судьями одно только слово, а я не пожелал его сказать, доказав, что воля моя свободна. (Взято из Википедии)
О том, насколько он разносторонне развитая личность, и что им утверждалось тогда-то и там-то, распространяться тут неуместно. В 1602 году этот человек написал «Город Солнца» и впоследствие умудрился его опубликовать на латыни (первое издание на итальянском было через триста лет). Я утверждаю: Советский Союз времён Сталина это чудовищный аналог Города Солнца. Не в обиду философу и теологу, экзегету и астрологу, метафизику и поэту – силой воображения ему удалось подсмотреть, находясь в застенках, лишённых как вы понимаете не только современного комфорта, но и лениво рассеянных порций дневного света, залапанного до тошнотворной серятины каменными объятиями, а порою – трудно поверить, но факт наповал! – залитых морской водой по самые ятра несколько раз на дню – удалось высмотреть и, опуская негативные проявления увиденного (се – мой домысел, но похоже на правду), всё зафиксировать. Он это увидел и рассказал о том весьма сухо, словно схему накидал. Но василиски власти в империи Советов свихнулись от прочитанного, и решили соответствовать схеме (в главных чертах!). Я ни на йоту не утрирую. Труд в «Городе Солнца» общеобязателен, и это положение не обсуждается. В книге проводится мысль, что труд для любого гражданина – дело чести, именно поэтому к сей «проблеме» граждане относятся очень легко: с аксиомой же не спорят. Далее, в «нашей» солнечной утопии истина есть общественное достояние и не дай Бог кому-либо даже среди своих (а проще: в семье) усомниться в истине. Как вы думаете – почему?.. Поздравляю, вы угадали! – потому что дети следят за родителями, и они (дети) настолько «сознательные», что доносят на родителей в случае прорастающих сомнений в головах у последних. Вот вам, пожалуйста, сам Павлик Морозов, которого скорее всего не было, но которого надо было обязательно придумать! И ещё один момент. Правители в городе Солнца – все учёные. Причём – чем учёный больше знает, тем у него больше власти. Главный правитель – Метафизик, его и Солнцем зовут. В принципе, он из касты священнической, но религия в городе слита с наукой, так что он и жрец, и разбирается во всём (как Сталин, корифей всех наук и областей Знания), и управляет научной деятельностью. Вавилова, генетика, лакеи Людоеда забили до смерти, зато сам Людоед был спецом даже в языкознании. И страшнейшую в истории войну выиграли, конечно же, благодаря лобешнику Людоеда – а как же иначе!..
Теперь понятно почему я завёл издали разговор о наших родителях? Они не просто жили в Городе Солнца, великой утопии всех времён, они эту утопию даже пережили!
И... в качестве заключительного аккорда в этой части свободных излияний: А.Луначарский был потрясён личностью Кампанеллы и пытался написать о нём нечто внушительное. Но основную часть под названием «Солнце» так и не дописал. Повезло наркому просвещения – не дописал и не пришлось выяснять отношения с Кобой. А закончил бы – Коба непременно что-нибудь себе скоммуниздил: вульгарно спиздить во имя светлого будущего Злодей не брезговал никогда – у Ленина, Троцкого, у Бухарина, – и как ни в чём не бывало затем «рассуждал» на тему, а то и действовал по лекалам присвоенной модели...
«Подобно всем странам, где Таис встречалась с угнетением женщин, государство персов должно было впасть в невежество и наплодить трусов».
( И.Ефремов, «Таис Афинская»)
НАКОНЕЦ! Наконец, бумага бастует и требует... Есть часы и минуты камни разбрасывать, а бывает – ты должен их собирать, внушал мудрец. Так и поступим: постепенно прояснится – с чего вдруг Набоков в роли зачинщика, какие-такие фантомные боли, отчего ни с того ни с сего утопии-антиутопии вспомнились автору, и зачем финтит он...
Дабы не томить: в «Даре» Набокова дважды мелькнул персонаж по фамилии Владимиров – помните? Он был автором «двух романов, отличных по силе и скорости зеркального слога» – такова характеристика. Имеется в виду сам Набоков, а один из двух романов, по скорости зеркального слога выделяющийся, – «Приглашение на казнь». Нам пригодится знание об этой книге в будущем.
Далее: ощущение постепенного усыхания русской литературы, превращения её либо в имперскую на доминирующем языке, по образцу литературы на латыни в империи древнего Рима, либо в литературу русскоязычной диаспоры опять же, – ощущение закономерное, но объяснение тому лежит глубже плоскости «безысходно кромешной истории»: 1917-ый с последствиями и т.д., и т.п., и пр. Объяснение тому лежит в области, называемой с недавних пор «человеческим фактором». Ни тени шутки. Понятие самоцензуры не мной придумано, а ГЛАСНОСТЬ середины 80-х лишний раз подтвердила сей момент: ведь большинство писало о том, что можно. Ну разумеется, кому приятно строчить в стол?! Шаламов, правда, писал в стол. Хуже того, на него давили, как на Галилея, отречения требовали публичного, добились своего, чем озолотили биографию писателя, вопреки собственной дурости. А вот хвалёная «деревенская» плеяда, честностью коей нам прожжужали миллионы правых и левых ушей, – она писала о том, что можно! И только о том, что можно и как можно: автоцензор «деревне» внутри диктовал, поправлял-останавливал.., а потом их печатали – честно, без купюр. Вот вам веская причина зарождения болезненного зуда, который называется фантомной болью, – нечто напрочь исчезнувшее (отрезанное, допустим) вдруг болит. Сильно болит! Так что же «болело»? – ну это ясно, как Божий день, – болела правда...
Автор этих строк, как зовут меня – так и пишут, не мог за всем уследить из-за кордона. Оно и понятно – основное моё внимание притягивала поэзия, всё-таки. Тем не менее, я стремился «взвешивать» и прозу. О поэзии – вкратце: «Пятьдесят капелек крови в абсорбирующей среде» я считаю лучшим достижением Пригова, – и слава Богу, что он их не перепечатывал из книги в книгу – не залапали шедевр, и хорошо!.. С прозой туманнее: несмотря на то, что крайне раздражал соцарт, бесконечное злорадное зубоскальство поперёк горла торчало и вдоль дури рядило, сам рыжий факт возникновения соцарта свидетельствовал: «вырваться» из клешней автоцензора удаётся многим. Ну что ж, раз так – и то дело! О ту пору, конечно, я предпочитал «Змеесоса» Радова всему остальному (постмодернизм без вкраплений соцарта, с прямыми попытками привлечения театра психотропики). Для СССР – атас!
Однако «слежка» моя всё равно продолжалась, Радовым ДЕЛО не могло исчерпываться. Что происходит с Веничкой; в середине 80-х в «Континенте» была опубликована его пьеса, всех ошарашившая. Неприятный сюрприз. Что происходит с другим Ерофеевым? Его «Русская красавица» действительна хороша, смело подано, без жижи, блядство откровенное, навылет дьявольское, хотя смущал один момент – фактура «традиционная», решение обыкновенное, в известном смысле, линейное. Критика его же – действительно сдвиг, яркий и ощутимый, а роман хоть и хорош, но традиционная анатомия – а претензия-то о другом... И вот тут очень сильно удивил «Месяц в Дахау» Сорокина. Именно удивил. И впрямь: с одной стороны Дахау, конечно, не санаторий, но нам известны и Маутхаузен, и Берген-Бельзен, а уж о Треблинке жутко думать-говорить, к тому же произведения Кацетника, хоть ты тресни, но тотальней. С другой стороны: «Месяц в Дахау», а точнее его автор, он что? – соревнуется с Соколовым? с «Палисандрией»? или – этот эпизод с фотографией мамы есть намёк на вынужденное предательство родины? и тем самым – всё навыворот читайте? – может, идиотские вопросы; возникают и идиотские вопросы во время прочтения того или иного. Сколько вопросов возникло у тебя, дорогой читатель, и какие то были вопросы, по мере углубления в роман «Подросток», например? А – по мере углубления в прозу Жоржа Батая?.. «Палисандрия» – первый по-настоящему постмодернистский роман на русском языке, совершенно в России недооцененный, абсолютно не понятно почему?.. Хотя, ежели Россия родина самых-самых вишнёвых слонов, то зачем менипеи всякие ей, куда их совать, менипеи енти самые? да ещё с какими-то беккетовскими заковырками ко всему прочему неприличному?! Ох, бедная ты страна, и такая богатая!.. А «Месяц в Дахау» помельче, скажем, и зачем Сорокину нужен был соколовский ход? Но произошло нечто куда более важное: Владимир Сорокин привлёк внимание, что, согласитесь, самоценно.
После этой странноватой повести я прочитал «Тридцатую любовь Марины». Не, нет, совсем забыл об «Очереди». «Очередь» сорокинскую я прочёл в середине 80-х, но имя автора к 90-м годам выветрилось из головы. А «Тридцатая любовь...» убедила меня в мастерстве автора. Сегодня я полагаю, что этот роман для тёзки был некой тренировочной пробежкой с целью убедиться во владении пером. Буквально: владею, значит, могу сделать всё что вздумается. Писатель, как мне видится, убедился на все сто. Четыре, если не ошибаюсь, лексических пласта, в отношении стиля выдержанных безукоризненно: стило не подвело его ни разу; сделано без напряга (таково впечатление); чудовищный язык информационных средств официоза, по правде сказать, обламывает страшно – глаза перекошены после того, но ведь так и должно было быть! А значит – задача выполнена. Что в свою очередь доказало – автор небывалый, «глаз с него не спускать»!..
Пусть читатель мне простит затянувшееся «раскачивание», но в любом случае – плывём, не назад, а вперёд, что и требуется от лодки. Гребу-то я один, и шестом в одиночку орудую, а дно тут илистое! Так что простите...
Где-то ближе к концу века заядлого соцарта выпало, наконец, время – так выпадает карта, – других, разнокалиберных, но совершенно нелишних для более углублённого понимания загадки писателя книг: это гениальная «Норма» и тошнотворная «Сердца четырёх». Первые страницы «Нормы», где используется приём из «Масок» Андрея Белого, кинематографичны до предела, все эти сцены с персонажами, подобранными из толпы скучающих статистов, как в кино мимо глаз проплывают ненавязчиво и убедительно. Но сказано в романе больше: помните кошмар сожжения в деревне, когда хором решался вопрос – жить или на тот свет сгинуть? Здесь Сорокин, молодой ещё человек, по-любому, заметим, не прошедший огонь, воду и сибирские трубы автор, высказал больше этой взасос зацелованной «деревенской» линии. И пускай на «лице» сей якобы школы метины губной помады сердечком со стрелой – Сорокин смело показал, чего оно – «лицо» это бородатое, – не посмело: как большинство «коллективно» задавливает нормальное человеческое милосердие на корню. И это с вялой помощью ЧК, с молчаливой подачи кожаных тужурок! Мне возразят: о том было невозможно писать. Ну верно, о том было НЕЛЬЗЯ, и до сих пор о том НЕМОЖНО.
Было бы недурно посвятить разбору «Нормы» больше времени – там ведь великолепные есть этюды, хотя бы переписка насчёт сломаной калитки – шедевр! Но не выкроить... Зато по прочтении обеих этих книг ситуация с другой, с «Месяцем в Дахау», прояснилась. Сцена с фотографией матери обрела совершенно иное звучание. Не соколовское!.. Мне приходилось говорить о тяготении Сорокиным к теме фекалий, и что скрывается за этим извращённым кодом в его прозе. Уточню, в ранней прозе. Герои книги «Сердца четырёх» буквально друг друга подзаряжают, испуская газы прямо в рот «коллеге», и это придаёт им силы. Брикеты фекалий в «Норме» являются такой же нормой в обиходе, с годами почти не изменившейся, как победившая идеология. И они обязательны, эти брикеты, как пища, придающая силы. Вообще, идея, подогревающая немыслимую одержимость, провоцирующая слепое обожание, связана с фекалиями. В первую очередь идеология, идея-фикс во вторую. Есть у раннего Сорокина рассказ, в котором ученик, помешанный на учителе, во время экскурсии класса на природу, подсмотрел, как тот испражнялся на поляне под луной, и бросился поедать свежие фекалии обожаемого учителя... Я понимаю «Месяц в Дахау» так – любимая мама: Родина: загаженная идеологией – испражнениями сына: сын – образ вполне собирательный, грубо говоря: мы же сами и загадили родину идеей-фикс о светлом будущем. Опа, разве не так? А теперь ещё и страдаем! (Что, конечно, Никогда! – реплика ворона с этажерки).
Поскольку маршрут моего ознакомления с творчеством В.Сорокина оказался петляющим и неожиданно непоследовательным, – постольку избирательным с моей стороны становится и слово о письме, приёмах, мыслях и тайнах этого автора (по мере возможности, понятное дело, хотя вряд ли это подчёркивать надо). Поэтому, не стремясь восстанавливать в деталях картину конца века и начала тысячелетия, лишь вскользь отмечу пассионарный выброс энергии в русской прозе с 1999 по 2001 год: вышли три книги разных авторов, одна лучше другой: Андеграунд или герой нашего времени Маканина, Блуждающее время Юрия Мамлеева и роман Сорокина Голубое сало. На последнем остановим наше внимание.
Первые сто-сто двадцать страниц гениальны, стиль – золото! Далее вставлен очень весомый и давний рассказ в канву романа. А далее, на первый взгляд – совсем странный поворот. Но действительно ли такой уж «странный»? Ключом к пониманию романа является понятие деконструкции, в данном случае – деконструкция тотальная: литературы, истории, власти и отношений внутри Кремля. Ко всем этим орешкам натыкаемся в романе на первый внятный набросок антиутопии, пока на уровне отдельных штрихов. Деконструкция вовсе не означает переосмысления от А до Я, с арматуры фундамента начиная, вовсе нет. Это приём, в голове философа Деррида рождённый, означающий резкую смену ракурса наблюдения. По-моему, деконструкция есть аналог кривочтению Хэролда Блюма. Для простоты: ближний пейзаж может разительно измениться, стоит нам вдруг перейти на 150 метров в сторону с обычной площадки обзора. В принципе, деконструкция как приём в литературе возможности пера обогащает невероятно, этот приём ко двору Постмодерна пришёлся как нельзя кстати. А уж сорокинский соцарт враз испёк полромана деконструктивно. Я немного адаптировал взгляд на деконструкцию, поскольку приём философа замысловатый оказался по зубам Литературе. А вот Философии – вопрос висит, висит и висит. Ежели не так, пусть Философия возразит немногословно, да не путая деконструкцию с деструкцией.
Верховный суд Хазарии (или Хазарского каганата) был интересно устроен: он состоял из двух представителей иудаизма, двух представителей христианства, двух мусульман и одного язычника. Павич о том не упоминает, в главных его произведениях, по крайней мере, такой информации нет.
Между прочим: проклятая тема фекалий всплывает на страницах и этого романа. Более того, имеются чуднЫе слова: Люди, поверхностно знакомые с фекальной культурой... – ну разве могло быть иначе? Разве, когда разговор идёт о Большом театре – средостении единственно идеологически выдержанной и (... даже в области балета!) верной на планете культуры! – не дОлжно было автору подчеркнуть канализационный аспект, если сам автор не соотносит сие плохо пахнущее содержание с идеологией (да ещё и времён Тирана)?! Так что, я полагаю, этот вопрос закрыт. А нужную фразу и следующие за нею я вам переведу целиком, дабы средний вкус не сильно давился: Люди, поверхностно знакомые с культурой победившей идеологии, полагают, что начинка агитационных каналов подачи достижений данной Культуры – густая непроглядная масса девизов и лозунгов. Это совсем не так. Девизы и лозунги составляют лишь 20%. Остальное – пропагандистский винегрет из красных мозолистых слов, восклицаний, запятых... и настырных до крови твёрдых и мягких знаков (шутка).
Однако мы говорили о деконструкции, накинувшейся на саму литературу, нет, точнее будет вот так: вознамерившейся дискредитировать САМУ Литературу! Да-да! Русскую! Великую!
Ладно – не до растрёпанной иронии нам здесь: торжеством деконструкции крайне сложной структуры отношений во власти, в коридорах, дальних комнатах и едва вымытых закутках Кремля, стал, как водится среди владеющих любыми языковыми оттенками, безоглядный и грубый стёб. Саша Соколов на той орбите побывал раньше, он ведь тоже деконструировал в своей «Палисандрии» – через семейные связи – эти отношения, но не в такой резкой форме: мягче, человечней, и юмор теплее. Не сомневаюсь в том, что Сорокин не просто внимательно читал Соколова, а кое-что почерпнул. И ничего плохого в том нет – наоборот как раз. Но вот произвести аналогичный опыт с литературой, с самыми видными (и любимыми публикой) писателями, да ещё «благодаря» клонированию – такой фантастики вряд ли кто ожидал! Тем не менее, мы это ИМЕЕМ, факт, хоть он и литературный, налицо...
Читатель, ты случайно не ждёшь от меня, что начну сейчас ковыряться в образцах письма, выданного на гора сочинёнными писателем монстрами? Нет уж, уволь, тут я ограничу свою прыть; воображение Сорокина чрезмерно, излишества – его конёк, впечатление, что ему это хорошо известно и писатель сам не очень знает «куда сие девать», поскольку чрезмерность начинает душить форму. А я, в свою очередь, попытаюсь отделаться минимумом замечаний относительно творчества сорокинских клонов.
Прямо и без канители: А.Чехов моим автором не был никогда. Лучшее, что я читал у него – всем турусам объективности: стоять! – Чехов умудрился испортить последней в повести фразой. Взял и запорол морализатор свою «Степь», прекрасную «Степь». Я равнодушен к его театру на бумаге, другое дело – сцена, но ведь подмостки актёрской игрой одухотворены, не текстом, а игрой! Поэтому, разрешите промолчать.
Реконструкт Ахматовой (пользуясь термином писателя) поразителен. Правда, из этих «Трёх ночей» первые две и предпочтительней, и похожи больше. Причём, самой Анне Андреевне при жизни не удалось ничего подобного двум первым клоновым стихотворениям написать, да поверят мне Аполлон и грации! – ей просто не под силу, хотя старалась. Что касается ночи третьей – реконстукт странный, чтоб не сказать – невпопад: ничего общего, скорее похож на Цветаеву. А может, перед написанием «Третьей ночи» клон начитался былин да сказок?.. Даже не знаю, стоит поинтересоваться у автора или оставить?
Клон Достоевского прикололся «слёзы прочь». По мне – прикол преувеличен. Преувеличение в духе Сорокина, правда. Церемонность предподъездная и предгостиная пойманы отлично, истошность и истеричность задушевных, околодушевных и вместодушевных интриг выражены прекрасно, но развязка имеет абсолютно сатирический оттенок, словно пожелал клон обвинить Фёдора Д. в чём-то. Да нет, даже хуже, уличить и выставить на посмешище, зная, что наблюдают тысячи глаз. Со своей стороны оговорюсь, возможно, преувеличиваю я – ну да, коленкор не всегда одинаков. Что естественно.
На Пастернаке, может показаться, автор элементарно оттягивается. Я в этом не уверен. Это скорее манера сорокинская: всех кого смогу – опущу. А Пастернак настолько подходящ – не отвертеться! Судите сами: совершенно блевотные страницы с описанием Большого театра, – где дают оперу «Евгений Онегин»! – заполненного до верху канализационными отходами и... зрителями в костюмах с масками для воздуха, – пропитаны ликованием придуманного писателя Николая Буряка, который исходит эпитетами восхищения в адрес исполнителей, оркестра, декораций, света, голосов... Особенный восторг от арии Любви все возрасты покорны! – и вперемежку с вроде как необязательным, но присутствующим упоминанием мечущихся стай экскрементов вдруг цитата: «И дышат почва и судьба». Вы скажете – это Буряк. Это он любит Пастернака, и потому. Ой ли? А я-то думал, что Сорокин. Надо же, ошибочка...
А что думать о клоне? И о том «бесстрашном» опыте? Мы читали у Пастернака лучше стихи, гораздо лучше, вообще: 27-летний поэт – гений! Позже, так сказать, зрелый мастер, но гениальность, мелькнув будто на прощанье в «Лейтенанте Шмидте», ускользнула от него, в даль социализма – которая якобы рядом, – в «Детство Люверс», может быть, ушла (всего-то). Пути Фебовы неисповедимы; может оттого, что БП «честно» отказался сделать предисловие к книге Кручёныха?.. Сорокин знает Пастернака хорошо, и перечитывает поэзию, я в этом уверен. Так что придётся мне покривить душой, сослаться на слова сорокинского героя: «... я терпеть ненавижу русмат. Поэтому и не комментирую».
Платонова клон сорокинский реконструировал очень здорово, ай да Сорокин! Особенный стилистический окрас передан без натяжек, и главная платоновская фишка: нет ценности выше Человека и человеческой жизни – сохранена и подчёркнута. Что не просто. А Толстой, Лев Толстой – у Сорокина, т.е. у клона сорокинского – завал! Работа тонкая, ремесленный акцент соблюдён чисто, вплоть до совершенно осязаемой, выпуклой как в «Утре помещика» изобразительности (акрамя игривой фразы про молоток, конечно), словом, безукоризненно! Но вот с Набоковым этого не приключилось. Я слышал от людей неглупых, разбирающихся в русской литературе, следующее утверждение: Сорокин Набокова ненавидит. Ссылаются при этом на данный опыт, мол, клон специально ни в какую – работа неубедительная именно в силу неприятия автором Набокова. И приплюсовывают к тому увесистую цитату: «... весь текст писан кровью. Что, к сожалению, не получилось у оригинала». Обвинение сильное. По прочтении «Голубого сала» похожее впечатление создалось у многих. Но я начал это эссе с целью показать мощь дара Сорокина в одном из последних его романов, в «Теллурии», где он развернулся, как никогда, и среди прочего доказать, что Сорокин знает и ценит Набокова. Более того, он один из немногих, кто тонко и грамотно набоковское наследие использует, кто опирается на Набокова.
Пустили в ход идиому, подпитывающую пэтэушный атавизм: за державу обидно – и народ ею козыряет. Подворовывает, но козыряет, ручищами размахивая! У молодого В.Катаева есть роман «Растратчики» – не то чтоб хорошо написано, нет, да подмечено верно. А в рассказе «Фёдор Бесприютный» очередного моего тёзки, Короленко, однозначная несправедливость объяснялась так: «Да ведь оно уже заведено, – мямлили арестанты...»
«Теллурия» написана в новом тысячелетии, в новых условиях – ДАННОСТЬ иная: прежде всего то, что мы зовём ноосферой, обогатилось в разы. «Теллурия» это мощная антиутопия, созданная мастером высшего пилотажа, и я надеюсь – все, кто читал её, согласны с моими тезисами. Роман этот – самый крупный из сорокинских и наиболее энергоёмкий. Назвать его огромным человек искусства не посмеет, огромен «Бесконечный тупик» Галковского. В СССР самое первое постмодернистское произведение – этакое «Былое и думы» в небывалом формате, в формате «Бесконечного тупика». Десять тысяч проклятий в адрес совкового менталитета – они травили Галковского лет восемь, хором, всей страной, как в своё время травили символизм всей страной – тоже лет шесть-семь, почитайте мемуары Белого, они блистательны, хоть и прошлись по ним гусеничные СТАНОВОЗЫ политической цензуры («политической» Белый называл большевистскую цензуру). Кстати, за ним приглядывали на самом верху – Каменев, например, стал рецензентом, предисловие даже накатал!.. Но я отвлёкся, хотя это полезно – народ пошёл мелковатый, ничего не знает, кроме своей ебучей карьеры, и знать не желает, если ТО не вписывается в его личную стратегию. И на подлость на «недоказуемую» способен ради...